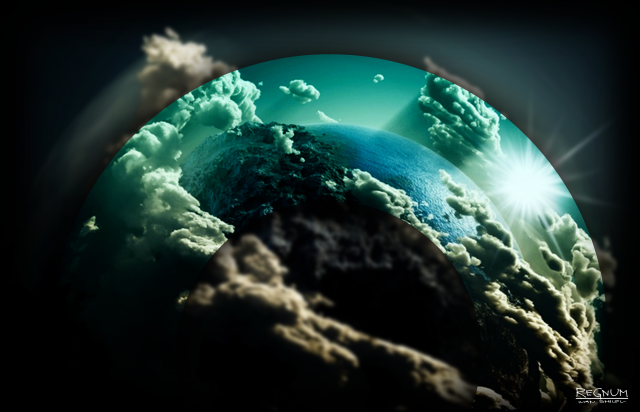Стыдно ли академикам за «вылеченную» гильотиной головную боль?
— Верят ли овцы пастуху?
— Конечно, ведь он охраняет их от волков.
— И потому рано или поздно оказываются на шампурах.
Из анекдота
С 25 по 30 сентября в МГУ пройдет очередной международный конгресс «Глобалистика». В его рамках намечено проведение ряда научных конференций по проблематике так называемого «устойчивого развития», которые «упакованы» в общей контекст 100-летия со дня рождения академика АН СССР и РАН, а также ВАСХНИЛ и РАХСН Н.Н. Моисеева. Мероприятия подобной направленности проходят не впервые; уже имелся описанный автором этих строк недавний прецедент проведения круглого стола, не имевшего, правда, научного статуса, на полях форума российских городов в московском Манеже.
Что обращает внимание? Почему-то всякий раз, когда такие форумы собираются общественными «активистами» или власть предержащие организуют тусовку приближенных к себе «экспертов», общая направленность выступлений (и выступающих) выглядит крайне однобокой. Эдакий «зеленый одобрям-с», в рамках которого любые критические оценки экологического официоза, прежде всего так называемого «климатического» процесса, усиленно пытаются выдать за «маргинальные». Однако ни в какой другой сфере, включая экономику, в которой по-прежнему доминирует либероидный «экономический блок» правительства, такого показушного «единодушия» не наблюдается: альтернативные точки зрения если и не приветствуются и не учитываются на практике, тем не менее звучат достаточно громко. И лишь в вопросах «устойчивого развития» они слышны только на альтернативных конференциях и круглых столах. Поневоле приходишь к выводу, что диалог в этой теме не предусмотрен. И понятно почему. Во-первых, аргументы критиков «зеленого» истеблишмента настолько убедительны, а противоречие его официальных установок национальным интересам настолько вопиющее, что спорить с оппонентами у официоза не получается, и единственный способ избежать дискредитации — это с ними не пересекаться. А единственный «аргумент», который на самом деле не аргумент вовсе, — что «нельзя не идти в ногу со всем «цивилизованным» миром». Это такая «стадная» логика эпического Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи»: «Все побежали, и я побежал…». Или комплекс провинциальной неполноценности нуворишей, дорвавшихся до крупной «халявы», но понимающих, что по другим, не грабительским «правилам игры», ехать придется не в Париж или Нью-Йорк, а в Магадан, причем надолго. Во-вторых, и это, видимо, главное, — в дело вплетены весьма крупные даже не экономические, а скорее корпоративные и групповые интересы. Оно и понятно: в «зеленой» сфере крутятся не просто большие, а очень большие деньги, поэтому на покупку заказного «экспертного мнения» хозяева средств не жалеют. В-третьих, финансовые интересы, как правило, являются проекцией политических. Именно так, а не наоборот: если в финансах между конкурентами делятся рынки и прибыль, то устранять «ненужных» конкурентов приходится сугубо политическим (и идеологическим) путем, в том числе с помощью внедрения в общественное мнение мифологем «устойчивого развития». А когда «промыванию мозгов» «мешают» альтернативные точки зрения, то шутки в сторону: не мудрствуя лукаво, их пытаются попросту заткнуть. Какая может быть «конкуренция идей», когда на кону «благосостояние» определенного, чисто конкретного, чиновного слоя! И то, с каким жаром и запалом этим занимаются, наводит на мысль, что где-то именно здесь находится «нервный узел» всей системы этого глобалистского «зеленого тоталитаризма», очень похожего на «лохотрон».
В тех редких случаях, когда противоборствующие стороны встречаются за одним столом, официоз неизменно терпит крах, как это имело место, например, на слушаниях в Общественной палате 1 ноября прошлого года. Или на российско-французском парламентском семинаре, который прошел 6 апреля в Совете Федерации. Выступление известного оппонента «зеленых лохотронщиков» Виктора Потапова тягостным молчанием встретили как сановные российские участники, так и гости верхней палаты с Елисейских полей, которые, добавим, в своих выступлениях договаривались порой до такой откровенной чуши, какой наши парламентарии и эксперты пытались стыдиться.
Предстоящий конгресс и конференции, посвященные наследию академика Моисеева, интересны именно тем, что разные точки зрения не просто опять сойдутся в лоб, но произойдет это на научной площадке, где принимаются не эмоции, а аргументы, и где всегда есть место сомнениям.
Выступить предстоит и автору этих строк; поэтому, не предвосхищая того, что будет говориться об идеологии и институциональной модели «зеленого» глобального управления, попробуем обратиться к другому вопросу. Покажем подоплеку аргументов научной части официоза, включая его академическую прослойку, которая деятельно поучаствовала в создании Римского клуба. Возьмем для этого самый натуральный первоисточник — книжку академика Джермена Гвишиани — сооснователя Римского клуба, зятя советского премьера Алексея Косыгина. Называется она «Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы» (М.: URSS, 1997. — 384 с.).
Вот о чем, в частности, рассказывает Гвишиани, раскрывая общий замысел этой, прямо скажем, внешней спецоперации. (Оговоримся, что сосредоточимся на демонстрации крайнего субъективизма предложенного Римским клубом механизма принятия решений, его прозападной, антисоветской направленности и, как следствие, однобокости, потребовавшей от советских участников полной сдачи позиций, на которую, как выясняется, они согласились еще в ранние 70-е годы).
«Основной задачей «мозговых центров» считались исследования, результаты которых особенно важны для принятия практических политических решений. В этом их главное отличие от НИИ, занимающихся традиционной наукой и разработками, продуцирующими знания для работы других ученых» (С. 29). Из этой постановки вопроса уже видно, что заниматься собирались не наукой, а политическим управлением под видом науки. Ниже приводится список основных «центров», который в этом выводе только укрепляет, — Стэнфордский и Гудзоновский институты, корпорация RAND и др. (С. 30).
«Здесь надо отметить одну важную смысловую тонкость, связанную с нашим и западным толкованием понятия «политика», — откровенничает Гвишиани. — Если английский словарь определяет термин «policy» как принципы, на которых основываются те или иные практические меры…, то наши энциклопедии трактовали его как сферу деятельности, связанную с отношениями между классами, нациями и другими социальными группами, ядро которых составляет проблема завоевания, удержания и использования государственной власти. Мы привыкли принимать под «политическим» решение чисто государственное или партийное и отождествлять «власть» с государственной властью. В развитых западных странах понятие «власть» связано с последним уровнем принятия окончательных решений, а «политика» обычно означает комплекс мер по… применению на практике избранного направления действий» (С. 29).
Яснее не скажешь! В отечественном прочтении монополией на власть обладает государство; на Западе же оно — марионетка в руках «принимателей окончательных решений». То есть олигархов и обслуживающих их интересы марионеток из «гражданского общества», СМИ, а также продажных политиков — кукол, которыми манипулируют опытные кукловоды. Иначе говоря, Гвишиани, по сути, признается в том, что нашей стороной тогда была принята западная трактовка политики, означавшая прямой подкоп под советское государство. За отсутствием собственных внегосударственных и внепартийных центров «принятия окончательных решений» Советскому Союзу навязывались западные. Именно отсюда и началась тридцать и три раза поминаемая нами сегодня система внешнего управления.
«В …1966 году, когда начиналась история ИФИАС («Международной Федерации институтов перспективных исследований»), а Аурелио Печчеи (основатель и первый президент Римского клуба) выступал с лекциями в США…, президент США Линдон Джонсон в программной речи заявил о необходимости «поскорее наладить связи между Западом и Востоком». К разработке этой цели были привлечены видный экономист, член Совета национальной безопасности (США) и профессор политологии и истории Макджордж Банди, на протяжении своей карьеры занимавший видные посты в Совете по иностранным делам (так Гвишиани камуфлирует «Совет по международным отношениям»), читавший лекции и возглавлявший в Гарвардском университете факультет науки и искусств. В 1961—1966 годах Банди был специальным помощником президента Кеннеди и затем Джонсона по вопросам национальной безопасности, а после отставки возглавил Фонд Форда» (С. 33).
Скажите, читатель, как можно было доверяться тому же Банди, учитывая его бэкграунд, в вопросах вовлечения СССР в «глобальную проблематику»? Не говоря уж о связях Печчеи с Аленом Даллесом, на резидентуру которого тот трудился еще в конце Второй мировой войны и потому был вытащен американской разведкой из застенков Муссолини.
Однако доверились. Почему? «Весной 1967 года Макджордж Банди отправился в поездку по Европе — в Лондон, Париж, Бонн, Рим и Москву, чтобы выяснить отношение к американской идее…». Очень откровенное и наглядное указание на то, в чьем фарватере пошли. И далее: «Серьезную поддержку оказал нам в этом (в том, чтобы убедить советские «верхи») Председатель Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин» (С. 33—34).
Комментарии нужны? Сказанного уже достаточно не на одно и даже не на десяток уголовных дел за государственную измену, нижний порог ответственности за которую в УК РСФСР был обозначен сроком в 10 лет, а значительная часть эпизодов откровенно тянула на «вышку».
И еще о методах оболванивания сановного «общественного мнения», которое радо было оболваниваться само. Причем, не за очень дорого. Например, за лишнюю командировку в страны «загнивающего Запада». А уж за возможность позаседать в созданных в Вене международных советах и институтах просто продавало душу — спросите об этом у Гавриила Попова или у ныне здравствующих представителей тогда еще будущей гайдаровской команды, для которых Вена стала «Меккой» и «Иерусалимом» в одном лице.
«…Джей Форрестер… быстро сумел модифицировать свои компьютерные модели и продемонстрировать членам Римского клуба прогоны моделей «Мир-1» и «Мир-2». Результаты оказались впечатляющими. Эдуард Пестель (автор двух программных «римских» докладов) добился от Фонда Фольксвагена финансирования работ с моделью Форрестера в размере 200 тыс. долларов, и в МТИ (Массачусетский технологический институт) была создана рабочая группа во главе с помощником Форрестера Деннисом Медоузом» (С. 40).
«Кто девушку обедает, то ее и танцует», как известно. Не поэтому ли «ломанулись» в Римский клуб наши интеллектуалы от науки, и не потому ли идеологически неприемлемый доклад группы Медоуза «Пределы роста» сразу же опубликовали и распространили в Советском Союзе, что под это на Западе выделили финансирование? Партийные взносы с этих откатов, интересно, заплатили?
Да, а откуда взялись «впечатляющие результаты»? В один из первых документов Римского клуба — «Проект-1969» — был включен ряд фаз. Далее слово снова академику Гвишиани — зачем пересказывать то, что можно услышать в «признательных показаниях» первого лица?
«Первая фаза — информативная, или когнитивная… Здесь Печчеи ссылается на работу Эриха Янча «Перспективы технологического прогнозирования», выполненную им по заказу ОЭСР в 1966 году, в которой было обобщено положение дел в теории и практике прогнозирования… Янч говорит в этой работе, что в конечном счете можно (!) уложить все главные технические положения в широкий социальный контекст и (!) обнаружить «естественную» тенденцию ко все более полной интеграции прогнозирования и планирования…» (С. 82).
Итак, прогнозирование подменили планированием. Иначе говоря, решение задачки подогнали под готовый ответ из конца учебника, навешав на уши заинтересованной «общественности», более всего озабоченной судьбой фольксвагеновских 200 тысяч, натуральную «лапшу». Такой же бесцеремонный подлог в самом докладе «Пределы роста» был совершен в отношении пяти указанных там якобы взаимосвязанных факторов, никакой круговой зависимостью между которыми на самом деле не пахло и в помине.
Так «рисовался» сценарий глобальных перемен, в разработке которого, по признанию Гвишиани, деятельно поучаствовали академики Федоров, Капица-младший, Богомолов. Позднее эстафетную палочку перехватили Примаков и Горбачёв (да-да, тот самый, тоже член Римского клуба, правда «почетный»).
Так формировался фундамент учения будущего академика Моисеева, перехватившего «эстафетную палочку» уже в 80-е годы. И седовласые фигуранты той эпохи сегодня, посыпая голову пеплом, прикрывают откровенное соглашательство и низкопоклонство перед Западом «предотвращением ядерной войны». Это называется, вылечили головную боль гильотиной! Когда пресловутый «план Баруха» в 1946 году пытались подсунуть Сталину, зафиксировав в нем ядерную монополию США путем формальной передачи ядерного оружия под контроль ООН в лице МАГАТЭ, вождь себя обмануть не позволил, и СССР успешно завершил собственную ядерную программу. Правда, то был Сталин, который понимал, а точнее, на своем опыте знал, что любые договоренности с Западом не стоят бумаги, на которой написаны. Косыгин считал иначе и успешно обтяпывал свои дела за спиной мало понимавшего в этих вопросах армейского политработника Брежнева.
Несмотря на достаточно глубокий исторический контекст, тема эта и сегодня актуальна по двум причинам. Во-первых, мы до сих пор расхлебываем заваренную тогда кашу. И обречены расхлебывать ее еще долго. Во-вторых, разве не видно тех, кто в своих корыстных интересах или по недопониманию и неспособности проникнуть вглубь событий снова готов на ликвидационные эксперименты, оправдываясь «единством человечества» и якобы «принадлежностью» России к «единой мировой цивилизации». Хотя бредовой и опасной идею такого «единства» называл даже такой «мастодонт» холодной войны, как Арнольд Тойнби, многолетний директор лондонского «Chatham House», ключевого «think tank» в системе соответствующих институтов Запада.
Ну что, обманемся еще раз, доверившись очередным «наивным гениям» от науки, которых хлебом не корми, дай посидеть на online-конференции с Вашингтоном или Нью-Йорком, а еще лучше туда поехать! Ведь нет сомнений, что именно в непреходящей «общности интересов» волков и овец нас будут убеждать иностранные участники конгресса. А также прочно сидящая на грантах их отечественная агентура влияния.
Или всё-таки возьмемся за ум? Ведь известно, что лучше поздно, чем никогда!